Пользователи, открывшие больше всего тем
| Алексей Ершов | ||||
| Сергей Королёв | ||||
| Алина Дием | ||||
| Наталия | ||||
| galina.kustova | ||||
| Галина | ||||
| Константин В. | ||||
| Дмитрий Трясцин | ||||
| Алексей Накаряков | ||||
| юлия алексеевна |
Поделиться в сетях
КРУШЕНИЕ ВСЕЛЕННОЙ
Страница 1 из 1
 КРУШЕНИЕ ВСЕЛЕННОЙ
КРУШЕНИЕ ВСЕЛЕННОЙ
Изначально я хотела написать о бабушке рассказ или стихотворение. Получилась молитва. Бабушка была моей богиней в детской вселенной.
Весь мир вращался вокруг неё. Она была солнцем, дарившим тепло и жизнь.
Она была щитом, охраняющим наш мир. Она была мудростью, придававшей смысл жизни. Я очень любила маму и деда, но центром вселенной была бабушка. Бабушка – стержень семьи, рода. Бабушка – душа дома. Бабушка – родительница моей речи.
То, как я пишу, – результат не только моей жизни и образования, но и отражение мировосприятия бабушкой. Она посеяла семена духовности и культуры русского мира во мне. То, как бабушка воспринимала природу и общество, передалось мне в тысячах мельчайших проявлений. Её бережные руки в огородной земле на ухоженной грядке или чистящие хрупкие грузди в холодной воде говорили без слов, но так понятно.
Её уменье найти точное слово в нужный момент отражало ясный ум. Её немногословная речь была расцвечена присловьями, интонациями и акцентами уральского говора. Бабушка владела богатствами русского языка так естественно, как дыханьем. Она была скупа на улыбку, но умела улыбаться острым словечком.
Иногда она не могла изменить события, происходящие вокруг неё, но видела их подоплёку и давала им справедливую оценку. Она не обольщалась ни речами, ни делами. Бабушка умела распознать суть человека, стоящего перед ней. У неё был горький жизненный опыт, но горечь она пила одна и не выплёскивала её на окружающих. Её сдержанность – показатель высокой духовности и культуры русской крестьянки.
Когда бабушка внезапно умерла, рухнул мой детский мир, а с ним и вся гармоничная вселенная. Наступила дисгармония. Последующие сорок лет ушли у меня на то, чтобы возродить гармонию в душе. И только в мои пятьдесят лет, когда я стала писать стихи, я поняла, что осуществила детскую заветную цель – вернула с того света бабушку и деда, вернула наш дом и мир, мою богиню и вселенную. И тёплый свет пролился в стихи и в этот рассказ о светлом кунгурском детстве.
После июньской операции 1962 года бабушка восстанавливала силы дома. Дед и дочери всячески оберегали её, просили не переутомляться. Даже братцы Голышевы в это лето к нам не приезжали, чтобы не придавать бабушке лишних хлопот. Мы с бабушкой вместе поливали огород, пололи, собрали огородный урожай, сварили варенье.
Дед с дядей Володей Голышевым напилили дров ручной пилой, сложили поленницы. Мама из-за сломанной руки не могла пилить. Поленницы, их дух, их труд и возведение, своеобразная красота – это целая поэма моего детства. Как я ждала лесопильные, праздничные для меня, дни! Как я упивалась бархатными душистыми опилками, зачерпывая их в пригоршни и погружая в них лицо! Сколько игр находила среди чурбачков и поленьев под пенье дедовой острейшей и длинной ручной пилы! А бабушка подолгу в летние вечера простаивала у свежей поленницы, поглаживала её, была задумчивая и красивая.
Ещё одно необыкновенное удовольствие – лес. Дед брал меня по грибы, мы бродили по березнику за обабками, собирали рыжики в молоденьких ельничках, уходили довольно далеко за груздями. Мы приносили в это лето помногу, большими корзинами, ведь я уже была большая, собирала грибы почти на равных с дедом, он нахвалиться не мог, а я ни одного дня грибной охоты с дедом не пропускала, хоть и рано вставать приходилось, комаров кормить, расшибать и царапать коленки в чащобе, мокнуть и мёрзнуть под дождем. Иногда плелись домой уже из последних сил, еле сползая с Ледяной горы, ведь ходили мы по грибы пешком. Но дня через три азарт и охота опять двигали нас с дедом за много километров от города.
А бабушка чистила грибы и солила в бочки и бочоночки, добавляя листиков и разных трав для вкуса.
Уже осенью мы начинали ужинать солёными грибами с отварной картошкой. А зимой под обжигающе горячую картофелину из чугунка подкладываешь себе кисленьких твёрдых рыжиков, которые бабушка только что выскребла из бочонка в сенях да с комочками льда на тарелке заправила сметаной, отправляешь их в рот большой ложкой вместе с кусочком горячей картофелины и тянешь этот грибной сок, и жуёшь, не спеша, этакое вкусное сокровище. Упоение! У бабушки была отработана целая деревенская технология грибных солений, потому что грузди требовали одной засолки, а рыжики совсем другой. А какой именно – семейный секрет мастерицы-кормилицы.
Тут не грех вспомнить и осенние бабушкины селянки – морковную и картофельную. Запекались они в железных чашках: в больших – для взрослых и в маленькой – для меня. Совсем как в сказке про медвежье семейство и девочку: «Кто ел из моей чашки?!» Тёплые, сочные, с аппетитной запёкшейся корочкой, подавались селянки прямо из остывающей русской печи и поливались сверху топлёным маслом или сметаной. Кроме как у бабушки, я селянок нигде и никогда не едала. Позже в жизни меня ждало только обычное овощное пюре, ни в какое сравнение не годящееся с селянками.
Зимой все заботы о моём первом классе легли на плечи деда, который в зимние метельные утра водил меня в школу, пробуравливая своими огромными валенками дорожку в снегу, а за ним тянулись цепочкой, как муравьи, ребятишки. Дед забирал меня из школы после уроков в полдень, возвращаясь к обеду из города с покупками. Водил на новогодние утренники в дома культуры, на катушки. Мама работала счетоводом-кассиром, у неё свободными были только вечера и воскресенье, которое всё чаще уходило на стирку и глажку. От субботы у мамы свободной оставалась только вторая половина дня, ведь тогда суббота у служащих была рабочим укороченным днем, а не выходным.
К марту бабушка почувствовала себя вновь сильной, уверенной в себе хозяйкой. В солнечный мартовский день бабушка обвела внимательным взглядом белёные потолок, стены, печь и решила всё освежить новой побелкой. Дед возражал, но бабушка указала ему на пятна вокруг вьюшки, на трещины в потолке, и он смирился, пошёл на рынок покупать мочальные щётки.
Побелка извёсткой с добавлением синьки – дело трудоёмкое, надо сперва всё подготовить. Дед с бабушкой вытащили всё из своей комнаты в сени. В пустой комнате мне хорошо аукалось, и я затянула с упоением распевную – «белым снегом, белым снегом ночь метельная всю стёжку замела, по которой, по которой я с тобой, любимый, рядышком прошла...». Бабушка с дедом смеялись, дед подтягивал. Работа закипела. Извёстка разъела бабушке все пальцы, она спешила, чтобы до язв не дошло. Резиновых перчаток не было, белила голыми руками. Особенно трудно достался потолок в большой комнате и кухне. Белила, стоя на столе, жгучая извёстка стекала по рукам. Но бабушка пожаловалась не на извёстку, а на то, что затылок ломило нет мочи. Бабушка всё-таки выбелила всё, как задумала. Мама по вечерам отмывала пол, ей тоже досталось. Наконец, дом засиял свежестью и чистотой. Тюлевые занавески и задергушки свежо топорщились на вымытых окнах с розовыми геранями. Сиял в углу фикус. Новое покрывало голубело на кровати.
Наступала предпасхальная апрельская неделя. Пришло известие от тёти Пии, что на Пасху она не сможет приехать к нам, сильно болеет. Дед с бабушкой встревожились и собирались съездить на пасхальной неделе в Байкино, попроведать тётю Пию. Бабушка с дедом приготовили на гостинцы глубокие тарелки с холодцом, да и на праздники семье сгодится, поставили чашки и тарелки с холодцами в чулан на ларь. На Пасху приедут дочери с семьями, пора печь пироги. Бабушка поставила квашонку. В субботнее утро, сияющее апрельским солнцем, бабушка испекла пироги – два на самых больших противнях с мясным фаршем и рисом, два на противнях поменьше – с солёными грибами, один пирог с рыбой и два больших разборника с вареньем в чугунных сковородках. Сытный запах разливался по дому. Настроение было праздничное. Предполагалось, что вечером разговимся рыбным пирогом и винегретом, который как раз готовила мама. Бабушка прилегла отдохнуть, обведя довольным взглядом труды своих рук.
Не зажигая света, мы с Валей Ляминой сумерничали в ожидании позднего ужина – лежали в маминой комнате поверх верблюжьего зелёного одеяла на широкой кровати и подпевали модным песням, льющимся из радиоприёмника. Валя усилила голос и размахивала руками, когда дошла до слов: «пусть красивей городские, у неё глаза синей, городские не такие, если сердце тянет к ней...». Песенка была как бы про неё, и Валя обожала «Бирюсинку». Вдруг на пороге встала мама и тревожным голосом сказала: «Девочки, помолчите, а то бабушке плохо стало...» Мы вскочили и пошли посмотреть на бабушку.
Она лежала на своей кровати с серым лицом, вокруг закрытых глаз темнели пятна. В воздухе пахло бромом, мама дрожащими руками капала в ложку. «Папа уже ушёл вызывать «скорую помощь», – тихонько сказала мама. Несколько минут мы в молчании стояли у постели бабушки, она не шевелилась, слабое дыхание еле заметно. Мама сходила в свою комнату и выключила радио. Громко стучали лишь настенные часы на кухне. Шли минуты. Не было ни «скорой», ни деда.
Я всё время смотрела на бабушку и ждала, что она вот-вот откроет глаза. Но она не шевелилась, и её закрытые глаза всё глубже уходили в глазницы, так мне казалось. Губы темнели. Мама присела на край кровати и стала гладить руки бабушки, массировать их. Через плечо сказала нам шёпотом: «какие холодные». Мы стояли с Валей молча. Вдруг бабушка шевельнулась, словно пыталась выпрямиться, но не открыла глаза и не простонала, губы плотно сжаты. Мама низко наклонилась к ней, повторяя «мама, мама». Потом вдруг мама встала, обернулась к нам и сказала шёпотом: «Мама умерла». Она недоумённо смотрела на нас, мы на неё. Бабушка лежала, как прежде, без движения, ровно, с серым лицом и тёмными губами. Мамино красивое лицо мигом вспухло, покраснело, и слёзы покатились к болезненно искривлённым губам. От маминых слёз заревела Валя, она зашмыгала носом и стала подвывать. Я стояла оглушённая, бесслёзная и не верила, что бабушка умерла. Нет, сейчас приедет «скорая», придёт дедушка, поможет. Бабушка здесь, дома, она не может умереть.
Я молчала. Мама закрывала своё лицо руками, слёзы капали всё сильней, она что-то пыталась сказать, но не могла. Деда всё не было. Валя куда-то ушла. Я стояла, как прикованная. Мама подошла ко мне, заслонила бабушку. Нет, я никуда не пойду, я здесь дождусь деда. Я это ясно думала, но не говорила. Зачем? И так всё понятно. Бабушка здесь, сейчас придёт дед, поможет. Я вцепилась в спинку бабушкиной кровати и не сводила с неё глаз. Лицо бабушки менялось на глазах. Оно белело на лбу и щеках, а губы темнели всё сильней. Мне казалось, что бабушке становится лучше. Мама почему-то всё пыталась оторвать мои руки от спинки и подвинуть меня, я мотала головой: нет, бабушка не умерла, ей лучше. Наконец, мама оставила меня в покое. Шум, скрип, тяжёлые шаги. Дед метнулся к кровати, рухнул на колени и взвыл от боли в стоне «Настя-а-а-а». Дед заплакал так внезапно, так сразу и так сильно, что я не могла оторвать глаз от его вздрагивающей спины и седой взлохмаченной головы, бьющейся о живот бабушки. Почему дед сразу поверил? Нет, нет, бабушка жива. Я хотела ему сказать и … не могла. Я говорила всё внутри себя, он меня не слышал. Теперь мама стала трясти и гладить дедушку, а сама всё глотала слёзы, уже ничего почти не видя. Её красное опухшее лицо было почти без глаз.
Валя ревела в голос с перекошенным некрасивым лицом. Дед уткнулся в бабушку, она вздрагивала от его движений. Она жива. Я не плачу, я всё вижу, я вижу, что бабушка жива. Сейчас приедет врач, он скажет. Мама что-то сказала Вале, та принесла моё зелёное зимнее пальто и стала на меня натягивать. Зачем? Мама сказала мне: «Поди, скажи, что бабушка умерла». Я мотала головой. Валя вывела меня на переднее тёмное крыльцо, сказала «иди!», а сама зябко шмыгнула в дом. Свежесть и темнота охватили меня.
Сколько я шла по тёмной улице к дому моего врага, я не помню. Как не помню, когда и как я вернулась домой, что было дальше. Говорили потом, что нашли меня одетой в пальто, шапку и валенки на маминой кровати и так крепко спящей, что оставили, как есть, не стали будить. Говорили, что «скорая помощь» приехала только через час и сорок минут, что она потребовалась уже не бабушке, а дедушке и маме. Говорили, что бабушка умерла от инсульта. Говорили, что весь поздний вечер в дом шли соседи. Говорили, что с трудом нашли старушку-чтицу читать молитвы, все были на всенощной. Говорили, что светлая душа бабушки попала прямо в рай навсегда, потому что райские ворота в Пасху открыты настежь и не каждому так повезёт – умереть на святой праздник. Я ничего не видела и не слышала, впала в свой защитный сон и проспала почти сутки.
Когда я проснулась, дом был полон родни. Все входили-выходили, разговаривали, что-то делали, носили-выносили. Дом был выстужен, никто не обратил внимания, что я в зимнем пальто сижу на стуле у бабушкиной постели. Наконец-то я могла побыть с бабушкой, поговорить с ней. Она лежала поверх одеяла, наряженная в своё смертное. Гроб закончили строгать только к вечеру следующего дня, да и куда спешить, хоронить нельзя ни в пасхальное воскресенье, ни в пасхальный понедельник по православному обычаю.
Бабушка лежала в белом ситцевом платочке, повязанном совсем не так, как она иногда носила при жизни, хотя дома платочки она совсем не носила, а только когда выходила на улицу. У бабушки были красивые, густые, без седины, тёмно-русые волосы, туго скрученные в низкий узел на затылке, заколотые двумя старинными костяными шпильками и одной железной волнистой. Надвинутый на лоб платок скрыл всю бабушкину красоту. Её знакомые узкие руки с ещё не зажившими язвами от извёстки держали иконку. Пахли зажжённые свечи и странно смотрелись в закатном свете. То бормотала, то переходила на полупение каких-то неотчётливых слов незнакомая старуха с молитвенником. Приходили старушки-соседки, стояли над бабушкой, слушали чтицу, потом молча уходили. Дед целый день был занят гробом, родственники меня не трогали, я не плакала и ладно. С каждым часом прибывали родственники, знакомые, соседи. Общие слёзы, всхлипы, разговоры сливались в негромкий гул, который совсем не задевал нас с бабушкой и не мешал мне с ней разговаривать.
Во вторник утром я нашла бабушку уже в гробу. Она всё так же спокойно лежала в белом платочке. Пахли свечи и свежеструганые доски. Как будто пилили дрова, так пахнет поленница. Бабушка согласилась со мной. Ближе к полудню на полслове оборвали наш с ней разговор и стали выносить гроб. Я возмущённо вскрикнула, а вокруг вдруг в голос запричитали что-то ужасное. Вынос гроба через высокий порог, сени и переднее крыльцо рвал мне душу. Зачем уносили бабушку из нашего дома? Плач родни усугубил состояние ужаса. Гроб поставили на табуретки перед воротами. Кто-то всё время меня толкал в спину и плечи, думаю, Валя. Я оглянулась и увидела рядом перепуганного Витю. То мне мешали смотреть на бабушку, а то оставили, наконец, в покое. Позднее оказалось, что нас расставляли вокруг гроба для прощальной фотографии. Ещё несколько минут с бабушкой на солнце. Вокруг хрустел и хлюпал мокрой кашей апрельский снег, кто-то проваливался в подтаявший рыхлый сугроб перед домом. Пахло проталой землёй и сырыми воротами. Я глубоко вздохнула, посмотрела вверх на солнце и... больше уже ничего не помню.
Отпевание во Всехсвятской церкви и похороны на кладбище прошли без меня. Я впала в глубокий сон. Как прошли поминки и разъехались родственники, не могу сказать, проспала. Когда я проснулась, то в доме была полная тишина и никого не было. В окна сияло солнце, я вышла во двор – никого. На улице – ни души. Пошлёпала по мокрым дорожкам к тёте Орише.
Она сразу налила мне парного молока, я жадно припала и вытянула огромную кружку. Тётя Ориша не плакала, ничего мне не говорила, только обняла и поцеловала в лоб. Я молча вышла и села на качели у них во дворе.
На закате меня нашёл дед, забрал домой. Сказал, что ходил на могилку к бабушке. Я молчала. Вечером пришли мама и Валя. Они разговаривали между собой, меня не трогали. То, что я не разговариваю, заметили не сразу. Я отвечала на вопросы кивками и мотаньем головой, моё лицо было бледное, но спокойное, я не плакала ни разу. Мама с дедом решили, что мне лучше побыть с ним дома и в школу пока не ходить.
Утром на какой-то вопрос деда я не смогла ничего сказать, и он притянул меня к себе, посмотрел обеспокоенно и попросил что-нибудь сказать. Я хотела, но не смогла. Дед торопливо оделся, оболок меня кое-как и повёл к Андрюкову. Я держала деда за руку, привычно вышагивала рядом по узкому переулку с подтаявшими сугробами у заборов и раскисшей снеговой кашей. Грустный Андрюков удивился и обрадовался нашему приходу, захлопотал с чаем. Потом я пила чай с его старушкой и дочерью, а дед и Андрюков куда-то ушли. После чая доктор Андрюков обследовал моё горло чайной ложечкой и своими мягкими тёплыми пальцами, ласково приговаривая, что ничего-ничего, всё пройдет, не надо волноваться. Он дал деду какие-то порошки, свёрнутые в треугольнички из жёлтой толстой бумажки. Дома мы с дедом оба поочерёдно их выпили с полстаканами старого спитого чая. Я проспала опять сутки, а может быть, больше. Когда проснулась, дед покормил меня, сказал, что Валя уехала в Пашию, к родителям, и больше учиться не будет. Мы впервые пошли с ним вместе на могилку к бабушке.
Дорога к Всехсвятской церкви идет в гору. Брусчатка вытаяла, над ней стоял пар. На чистой паперти сидели нищие. Дед дал им мелочь. Мы вошли в церковь. Запах ладана всегда меня успокаивал, я ходила перед иконами, смотрела на знакомые лики, на оплывшие огарки. Службы уже не было, но в воздухе в дымных столбах солнечного света всё ещё стоял её запах.
Мы вышли из церкви на паперть. Сиянье солнечного неба ударило в глаза, свежий воздух наполнил лёгкие, мне захотелось взлететь. Вошли в ворота кладбища. Совсем близко, в нескольких шагах от стены церкви, был свежий земляной холмик с некрашеным белым крестом, вокруг мокрота и грязь смятого и почти растаявшего снега, старые могилы в снегу. На могилке лежали скромные веночки. Дед наклонился и стал оглаживать застывшие комочки земли, мять их руками, ровнять края, прихлопывая сырую землю ладонями. Видно, он каждый день приходит сюда. А сколько дней прошло, я не знала.
Из-за высокого роста деду было неловко низко наклоняться к могилке. Я стала ему помогать. Холодная земля, сгнившие прошлогодние травинки, твёрдые камешки, кусочки глины под руками плохо расходились, но мы упрямо обихаживали могилку каждый со своей стороны. Потом дед выпрямился, достал из кармана смятый, грязный, огромный клетчатый носовой платок, взял мою руку и стал её вытирать. Я оглянулась на проделанную нами работу и удовлетворённо сказала: «Вот и лучше стало». И тут дедушка заплакал. Он схватил меня, прижал к себе, потом присел передо мной и поцеловал в щеку. Слёзы катились у него по крупному носу и залезали прямо в рот, я их вытерла грязной ладошкой. Дед, кряхтя, выпрямился, постоял, подняв к небу лицо, перекрестился и облегчённо выдохнул «слава тебе, Господи».
Весь мир вращался вокруг неё. Она была солнцем, дарившим тепло и жизнь.
Она была щитом, охраняющим наш мир. Она была мудростью, придававшей смысл жизни. Я очень любила маму и деда, но центром вселенной была бабушка. Бабушка – стержень семьи, рода. Бабушка – душа дома. Бабушка – родительница моей речи.
То, как я пишу, – результат не только моей жизни и образования, но и отражение мировосприятия бабушкой. Она посеяла семена духовности и культуры русского мира во мне. То, как бабушка воспринимала природу и общество, передалось мне в тысячах мельчайших проявлений. Её бережные руки в огородной земле на ухоженной грядке или чистящие хрупкие грузди в холодной воде говорили без слов, но так понятно.
Её уменье найти точное слово в нужный момент отражало ясный ум. Её немногословная речь была расцвечена присловьями, интонациями и акцентами уральского говора. Бабушка владела богатствами русского языка так естественно, как дыханьем. Она была скупа на улыбку, но умела улыбаться острым словечком.
Иногда она не могла изменить события, происходящие вокруг неё, но видела их подоплёку и давала им справедливую оценку. Она не обольщалась ни речами, ни делами. Бабушка умела распознать суть человека, стоящего перед ней. У неё был горький жизненный опыт, но горечь она пила одна и не выплёскивала её на окружающих. Её сдержанность – показатель высокой духовности и культуры русской крестьянки.
Когда бабушка внезапно умерла, рухнул мой детский мир, а с ним и вся гармоничная вселенная. Наступила дисгармония. Последующие сорок лет ушли у меня на то, чтобы возродить гармонию в душе. И только в мои пятьдесят лет, когда я стала писать стихи, я поняла, что осуществила детскую заветную цель – вернула с того света бабушку и деда, вернула наш дом и мир, мою богиню и вселенную. И тёплый свет пролился в стихи и в этот рассказ о светлом кунгурском детстве.
После июньской операции 1962 года бабушка восстанавливала силы дома. Дед и дочери всячески оберегали её, просили не переутомляться. Даже братцы Голышевы в это лето к нам не приезжали, чтобы не придавать бабушке лишних хлопот. Мы с бабушкой вместе поливали огород, пололи, собрали огородный урожай, сварили варенье.
Дед с дядей Володей Голышевым напилили дров ручной пилой, сложили поленницы. Мама из-за сломанной руки не могла пилить. Поленницы, их дух, их труд и возведение, своеобразная красота – это целая поэма моего детства. Как я ждала лесопильные, праздничные для меня, дни! Как я упивалась бархатными душистыми опилками, зачерпывая их в пригоршни и погружая в них лицо! Сколько игр находила среди чурбачков и поленьев под пенье дедовой острейшей и длинной ручной пилы! А бабушка подолгу в летние вечера простаивала у свежей поленницы, поглаживала её, была задумчивая и красивая.
Ещё одно необыкновенное удовольствие – лес. Дед брал меня по грибы, мы бродили по березнику за обабками, собирали рыжики в молоденьких ельничках, уходили довольно далеко за груздями. Мы приносили в это лето помногу, большими корзинами, ведь я уже была большая, собирала грибы почти на равных с дедом, он нахвалиться не мог, а я ни одного дня грибной охоты с дедом не пропускала, хоть и рано вставать приходилось, комаров кормить, расшибать и царапать коленки в чащобе, мокнуть и мёрзнуть под дождем. Иногда плелись домой уже из последних сил, еле сползая с Ледяной горы, ведь ходили мы по грибы пешком. Но дня через три азарт и охота опять двигали нас с дедом за много километров от города.
А бабушка чистила грибы и солила в бочки и бочоночки, добавляя листиков и разных трав для вкуса.
Уже осенью мы начинали ужинать солёными грибами с отварной картошкой. А зимой под обжигающе горячую картофелину из чугунка подкладываешь себе кисленьких твёрдых рыжиков, которые бабушка только что выскребла из бочонка в сенях да с комочками льда на тарелке заправила сметаной, отправляешь их в рот большой ложкой вместе с кусочком горячей картофелины и тянешь этот грибной сок, и жуёшь, не спеша, этакое вкусное сокровище. Упоение! У бабушки была отработана целая деревенская технология грибных солений, потому что грузди требовали одной засолки, а рыжики совсем другой. А какой именно – семейный секрет мастерицы-кормилицы.
Тут не грех вспомнить и осенние бабушкины селянки – морковную и картофельную. Запекались они в железных чашках: в больших – для взрослых и в маленькой – для меня. Совсем как в сказке про медвежье семейство и девочку: «Кто ел из моей чашки?!» Тёплые, сочные, с аппетитной запёкшейся корочкой, подавались селянки прямо из остывающей русской печи и поливались сверху топлёным маслом или сметаной. Кроме как у бабушки, я селянок нигде и никогда не едала. Позже в жизни меня ждало только обычное овощное пюре, ни в какое сравнение не годящееся с селянками.
Зимой все заботы о моём первом классе легли на плечи деда, который в зимние метельные утра водил меня в школу, пробуравливая своими огромными валенками дорожку в снегу, а за ним тянулись цепочкой, как муравьи, ребятишки. Дед забирал меня из школы после уроков в полдень, возвращаясь к обеду из города с покупками. Водил на новогодние утренники в дома культуры, на катушки. Мама работала счетоводом-кассиром, у неё свободными были только вечера и воскресенье, которое всё чаще уходило на стирку и глажку. От субботы у мамы свободной оставалась только вторая половина дня, ведь тогда суббота у служащих была рабочим укороченным днем, а не выходным.
К марту бабушка почувствовала себя вновь сильной, уверенной в себе хозяйкой. В солнечный мартовский день бабушка обвела внимательным взглядом белёные потолок, стены, печь и решила всё освежить новой побелкой. Дед возражал, но бабушка указала ему на пятна вокруг вьюшки, на трещины в потолке, и он смирился, пошёл на рынок покупать мочальные щётки.
Побелка извёсткой с добавлением синьки – дело трудоёмкое, надо сперва всё подготовить. Дед с бабушкой вытащили всё из своей комнаты в сени. В пустой комнате мне хорошо аукалось, и я затянула с упоением распевную – «белым снегом, белым снегом ночь метельная всю стёжку замела, по которой, по которой я с тобой, любимый, рядышком прошла...». Бабушка с дедом смеялись, дед подтягивал. Работа закипела. Извёстка разъела бабушке все пальцы, она спешила, чтобы до язв не дошло. Резиновых перчаток не было, белила голыми руками. Особенно трудно достался потолок в большой комнате и кухне. Белила, стоя на столе, жгучая извёстка стекала по рукам. Но бабушка пожаловалась не на извёстку, а на то, что затылок ломило нет мочи. Бабушка всё-таки выбелила всё, как задумала. Мама по вечерам отмывала пол, ей тоже досталось. Наконец, дом засиял свежестью и чистотой. Тюлевые занавески и задергушки свежо топорщились на вымытых окнах с розовыми геранями. Сиял в углу фикус. Новое покрывало голубело на кровати.
Наступала предпасхальная апрельская неделя. Пришло известие от тёти Пии, что на Пасху она не сможет приехать к нам, сильно болеет. Дед с бабушкой встревожились и собирались съездить на пасхальной неделе в Байкино, попроведать тётю Пию. Бабушка с дедом приготовили на гостинцы глубокие тарелки с холодцом, да и на праздники семье сгодится, поставили чашки и тарелки с холодцами в чулан на ларь. На Пасху приедут дочери с семьями, пора печь пироги. Бабушка поставила квашонку. В субботнее утро, сияющее апрельским солнцем, бабушка испекла пироги – два на самых больших противнях с мясным фаршем и рисом, два на противнях поменьше – с солёными грибами, один пирог с рыбой и два больших разборника с вареньем в чугунных сковородках. Сытный запах разливался по дому. Настроение было праздничное. Предполагалось, что вечером разговимся рыбным пирогом и винегретом, который как раз готовила мама. Бабушка прилегла отдохнуть, обведя довольным взглядом труды своих рук.
Не зажигая света, мы с Валей Ляминой сумерничали в ожидании позднего ужина – лежали в маминой комнате поверх верблюжьего зелёного одеяла на широкой кровати и подпевали модным песням, льющимся из радиоприёмника. Валя усилила голос и размахивала руками, когда дошла до слов: «пусть красивей городские, у неё глаза синей, городские не такие, если сердце тянет к ней...». Песенка была как бы про неё, и Валя обожала «Бирюсинку». Вдруг на пороге встала мама и тревожным голосом сказала: «Девочки, помолчите, а то бабушке плохо стало...» Мы вскочили и пошли посмотреть на бабушку.
Она лежала на своей кровати с серым лицом, вокруг закрытых глаз темнели пятна. В воздухе пахло бромом, мама дрожащими руками капала в ложку. «Папа уже ушёл вызывать «скорую помощь», – тихонько сказала мама. Несколько минут мы в молчании стояли у постели бабушки, она не шевелилась, слабое дыхание еле заметно. Мама сходила в свою комнату и выключила радио. Громко стучали лишь настенные часы на кухне. Шли минуты. Не было ни «скорой», ни деда.
Я всё время смотрела на бабушку и ждала, что она вот-вот откроет глаза. Но она не шевелилась, и её закрытые глаза всё глубже уходили в глазницы, так мне казалось. Губы темнели. Мама присела на край кровати и стала гладить руки бабушки, массировать их. Через плечо сказала нам шёпотом: «какие холодные». Мы стояли с Валей молча. Вдруг бабушка шевельнулась, словно пыталась выпрямиться, но не открыла глаза и не простонала, губы плотно сжаты. Мама низко наклонилась к ней, повторяя «мама, мама». Потом вдруг мама встала, обернулась к нам и сказала шёпотом: «Мама умерла». Она недоумённо смотрела на нас, мы на неё. Бабушка лежала, как прежде, без движения, ровно, с серым лицом и тёмными губами. Мамино красивое лицо мигом вспухло, покраснело, и слёзы покатились к болезненно искривлённым губам. От маминых слёз заревела Валя, она зашмыгала носом и стала подвывать. Я стояла оглушённая, бесслёзная и не верила, что бабушка умерла. Нет, сейчас приедет «скорая», придёт дедушка, поможет. Бабушка здесь, дома, она не может умереть.
Я молчала. Мама закрывала своё лицо руками, слёзы капали всё сильней, она что-то пыталась сказать, но не могла. Деда всё не было. Валя куда-то ушла. Я стояла, как прикованная. Мама подошла ко мне, заслонила бабушку. Нет, я никуда не пойду, я здесь дождусь деда. Я это ясно думала, но не говорила. Зачем? И так всё понятно. Бабушка здесь, сейчас придёт дед, поможет. Я вцепилась в спинку бабушкиной кровати и не сводила с неё глаз. Лицо бабушки менялось на глазах. Оно белело на лбу и щеках, а губы темнели всё сильней. Мне казалось, что бабушке становится лучше. Мама почему-то всё пыталась оторвать мои руки от спинки и подвинуть меня, я мотала головой: нет, бабушка не умерла, ей лучше. Наконец, мама оставила меня в покое. Шум, скрип, тяжёлые шаги. Дед метнулся к кровати, рухнул на колени и взвыл от боли в стоне «Настя-а-а-а». Дед заплакал так внезапно, так сразу и так сильно, что я не могла оторвать глаз от его вздрагивающей спины и седой взлохмаченной головы, бьющейся о живот бабушки. Почему дед сразу поверил? Нет, нет, бабушка жива. Я хотела ему сказать и … не могла. Я говорила всё внутри себя, он меня не слышал. Теперь мама стала трясти и гладить дедушку, а сама всё глотала слёзы, уже ничего почти не видя. Её красное опухшее лицо было почти без глаз.
Валя ревела в голос с перекошенным некрасивым лицом. Дед уткнулся в бабушку, она вздрагивала от его движений. Она жива. Я не плачу, я всё вижу, я вижу, что бабушка жива. Сейчас приедет врач, он скажет. Мама что-то сказала Вале, та принесла моё зелёное зимнее пальто и стала на меня натягивать. Зачем? Мама сказала мне: «Поди, скажи, что бабушка умерла». Я мотала головой. Валя вывела меня на переднее тёмное крыльцо, сказала «иди!», а сама зябко шмыгнула в дом. Свежесть и темнота охватили меня.
Сколько я шла по тёмной улице к дому моего врага, я не помню. Как не помню, когда и как я вернулась домой, что было дальше. Говорили потом, что нашли меня одетой в пальто, шапку и валенки на маминой кровати и так крепко спящей, что оставили, как есть, не стали будить. Говорили, что «скорая помощь» приехала только через час и сорок минут, что она потребовалась уже не бабушке, а дедушке и маме. Говорили, что бабушка умерла от инсульта. Говорили, что весь поздний вечер в дом шли соседи. Говорили, что с трудом нашли старушку-чтицу читать молитвы, все были на всенощной. Говорили, что светлая душа бабушки попала прямо в рай навсегда, потому что райские ворота в Пасху открыты настежь и не каждому так повезёт – умереть на святой праздник. Я ничего не видела и не слышала, впала в свой защитный сон и проспала почти сутки.
Когда я проснулась, дом был полон родни. Все входили-выходили, разговаривали, что-то делали, носили-выносили. Дом был выстужен, никто не обратил внимания, что я в зимнем пальто сижу на стуле у бабушкиной постели. Наконец-то я могла побыть с бабушкой, поговорить с ней. Она лежала поверх одеяла, наряженная в своё смертное. Гроб закончили строгать только к вечеру следующего дня, да и куда спешить, хоронить нельзя ни в пасхальное воскресенье, ни в пасхальный понедельник по православному обычаю.
Бабушка лежала в белом ситцевом платочке, повязанном совсем не так, как она иногда носила при жизни, хотя дома платочки она совсем не носила, а только когда выходила на улицу. У бабушки были красивые, густые, без седины, тёмно-русые волосы, туго скрученные в низкий узел на затылке, заколотые двумя старинными костяными шпильками и одной железной волнистой. Надвинутый на лоб платок скрыл всю бабушкину красоту. Её знакомые узкие руки с ещё не зажившими язвами от извёстки держали иконку. Пахли зажжённые свечи и странно смотрелись в закатном свете. То бормотала, то переходила на полупение каких-то неотчётливых слов незнакомая старуха с молитвенником. Приходили старушки-соседки, стояли над бабушкой, слушали чтицу, потом молча уходили. Дед целый день был занят гробом, родственники меня не трогали, я не плакала и ладно. С каждым часом прибывали родственники, знакомые, соседи. Общие слёзы, всхлипы, разговоры сливались в негромкий гул, который совсем не задевал нас с бабушкой и не мешал мне с ней разговаривать.
Во вторник утром я нашла бабушку уже в гробу. Она всё так же спокойно лежала в белом платочке. Пахли свечи и свежеструганые доски. Как будто пилили дрова, так пахнет поленница. Бабушка согласилась со мной. Ближе к полудню на полслове оборвали наш с ней разговор и стали выносить гроб. Я возмущённо вскрикнула, а вокруг вдруг в голос запричитали что-то ужасное. Вынос гроба через высокий порог, сени и переднее крыльцо рвал мне душу. Зачем уносили бабушку из нашего дома? Плач родни усугубил состояние ужаса. Гроб поставили на табуретки перед воротами. Кто-то всё время меня толкал в спину и плечи, думаю, Валя. Я оглянулась и увидела рядом перепуганного Витю. То мне мешали смотреть на бабушку, а то оставили, наконец, в покое. Позднее оказалось, что нас расставляли вокруг гроба для прощальной фотографии. Ещё несколько минут с бабушкой на солнце. Вокруг хрустел и хлюпал мокрой кашей апрельский снег, кто-то проваливался в подтаявший рыхлый сугроб перед домом. Пахло проталой землёй и сырыми воротами. Я глубоко вздохнула, посмотрела вверх на солнце и... больше уже ничего не помню.
Отпевание во Всехсвятской церкви и похороны на кладбище прошли без меня. Я впала в глубокий сон. Как прошли поминки и разъехались родственники, не могу сказать, проспала. Когда я проснулась, то в доме была полная тишина и никого не было. В окна сияло солнце, я вышла во двор – никого. На улице – ни души. Пошлёпала по мокрым дорожкам к тёте Орише.
Она сразу налила мне парного молока, я жадно припала и вытянула огромную кружку. Тётя Ориша не плакала, ничего мне не говорила, только обняла и поцеловала в лоб. Я молча вышла и села на качели у них во дворе.
На закате меня нашёл дед, забрал домой. Сказал, что ходил на могилку к бабушке. Я молчала. Вечером пришли мама и Валя. Они разговаривали между собой, меня не трогали. То, что я не разговариваю, заметили не сразу. Я отвечала на вопросы кивками и мотаньем головой, моё лицо было бледное, но спокойное, я не плакала ни разу. Мама с дедом решили, что мне лучше побыть с ним дома и в школу пока не ходить.
Утром на какой-то вопрос деда я не смогла ничего сказать, и он притянул меня к себе, посмотрел обеспокоенно и попросил что-нибудь сказать. Я хотела, но не смогла. Дед торопливо оделся, оболок меня кое-как и повёл к Андрюкову. Я держала деда за руку, привычно вышагивала рядом по узкому переулку с подтаявшими сугробами у заборов и раскисшей снеговой кашей. Грустный Андрюков удивился и обрадовался нашему приходу, захлопотал с чаем. Потом я пила чай с его старушкой и дочерью, а дед и Андрюков куда-то ушли. После чая доктор Андрюков обследовал моё горло чайной ложечкой и своими мягкими тёплыми пальцами, ласково приговаривая, что ничего-ничего, всё пройдет, не надо волноваться. Он дал деду какие-то порошки, свёрнутые в треугольнички из жёлтой толстой бумажки. Дома мы с дедом оба поочерёдно их выпили с полстаканами старого спитого чая. Я проспала опять сутки, а может быть, больше. Когда проснулась, дед покормил меня, сказал, что Валя уехала в Пашию, к родителям, и больше учиться не будет. Мы впервые пошли с ним вместе на могилку к бабушке.
Дорога к Всехсвятской церкви идет в гору. Брусчатка вытаяла, над ней стоял пар. На чистой паперти сидели нищие. Дед дал им мелочь. Мы вошли в церковь. Запах ладана всегда меня успокаивал, я ходила перед иконами, смотрела на знакомые лики, на оплывшие огарки. Службы уже не было, но в воздухе в дымных столбах солнечного света всё ещё стоял её запах.
Мы вышли из церкви на паперть. Сиянье солнечного неба ударило в глаза, свежий воздух наполнил лёгкие, мне захотелось взлететь. Вошли в ворота кладбища. Совсем близко, в нескольких шагах от стены церкви, был свежий земляной холмик с некрашеным белым крестом, вокруг мокрота и грязь смятого и почти растаявшего снега, старые могилы в снегу. На могилке лежали скромные веночки. Дед наклонился и стал оглаживать застывшие комочки земли, мять их руками, ровнять края, прихлопывая сырую землю ладонями. Видно, он каждый день приходит сюда. А сколько дней прошло, я не знала.
Из-за высокого роста деду было неловко низко наклоняться к могилке. Я стала ему помогать. Холодная земля, сгнившие прошлогодние травинки, твёрдые камешки, кусочки глины под руками плохо расходились, но мы упрямо обихаживали могилку каждый со своей стороны. Потом дед выпрямился, достал из кармана смятый, грязный, огромный клетчатый носовой платок, взял мою руку и стал её вытирать. Я оглянулась на проделанную нами работу и удовлетворённо сказала: «Вот и лучше стало». И тут дедушка заплакал. Он схватил меня, прижал к себе, потом присел передо мной и поцеловал в щеку. Слёзы катились у него по крупному носу и залезали прямо в рот, я их вытерла грязной ладошкой. Дед, кряхтя, выпрямился, постоял, подняв к небу лицо, перекрестился и облегчённо выдохнул «слава тебе, Господи».

Алина Дием- Русская поэтесса
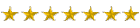
- Сообщения : 91
Очки : 200
Репутация : 1
Дата регистрации : 2017-08-28
Возраст : 69
Откуда : из Пермского края
Страница 1 из 1
Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения


» Новиков Василий Васильевич. д.Дейково - мой прапрадед, помогите найти какую=либо информацию о родственниках
» Алексея Васильевича с юбилеем!
» РГАДА, ф.350,оп.2, д.1638
» Сибирский тракт.
» Восстание 1704-1711гг