Пользователи, открывшие больше всего тем
| Алексей Ершов | ||||
| Сергей Королёв | ||||
| Алина Дием | ||||
| Наталия | ||||
| galina.kustova | ||||
| Галина | ||||
| Константин В. | ||||
| Алексей Накаряков | ||||
| Дмитрий Трясцин | ||||
| leha.vs |
Поделиться в сетях
БАБУШКИНО ХОЗЯЙСТВО
Страница 1 из 1
 БАБУШКИНО ХОЗЯЙСТВО
БАБУШКИНО ХОЗЯЙСТВО
Бабушка позволяла есть без хлеба яйца вкрутую со свежим пупырчатым огурцом. С хлебом-то и подавиться можно. И по сей день я люблю эту простую еду. А желтки были оранжевые, как наши рыжие плехановские куры.
За цыплятами мы с бабушкой ходили очень далеко – в Плехановую деревню, куда и автобус не ходил. Почему именно в этой деревне бабушка покупала цыплят, точно мне неизвестно. Вероятно, потому, что куры получались из них рыжие, а потому и дешевле, нет?
Две-три дюжины жёлтых пищащих комочков бабушка бережно несла в большой корзине, закрытой чистым ситцем. Дорога дальняя, и, когда мы всё чаще присаживались отдохнуть у обочины, бабушка откидывала ткань на корзине – продышаться животинке, а я осторожно поглаживала одним пальчиком топчущиеся комочки.
Потом дома с ними было много хлопот. Бабушка выкармливала цыплят мягкими крупами с круто сваренными яйцами, ошпаривала и толкла им первую нежную крапивку, грела цыплят в кухне в холодные дни весны.
Летом цыплята-подростки бродили в садочке во дворе, клевали смородинные кусты, прятались в них от бабушки, когда вечером она загоняла цыплят в курятник. Поздней осенью рыжих молоденьких кур переводили на зимовку в дом – в голбец. Оттуда из-под пола раздавался басовитый, важный петушиный крик, что-то требовавший для куриного сообщества. Бабушка спускалась в подполье, включала свет, разговаривала с курами, кормила их. Благодарные наши курочки неслись всю зиму. Но это их не спасало. Куриная счастливая жизнь была недолгой. Постепенно исчезая в супах, они к весне пропадали почти все, и начинался новый поход в Плеханово. Оставалось несколько кур на лето на яйца да клевачий, яркий петух жил, на моей памяти, года три-четыре. Курами занималась бабушка, она называла их самыми нежными и полезными созданьями из всего хозяйства. А мне, как самой маленькой, поручалось лазить под переднее крыльцо, где какая-то несознательная курица упорно неслась, не поддаваясь на бабушкины уговоры.
Наше хозяйство в своём доме на окраине Кунгура почти не отличалось от деревенского, привычного бабушке. Две свиньи в свинарнике, куры в курятнике, кот, собака, огород, баня – обычное дело, пожалуй, полегче, чем в деревне, ведь ни коровы, ни покоса уже не было. Так жили многие по окрестным кунгурским улицам, недаром и наша улица в то время называлась Крестьянской. Это потом, в 1961 году, она возгордится в честь полёта Юрия Гагарина и, забыв о Крестьянской, а когда-то Мининской, станет длинной, вплоть до Ледяной горы, улицей Гагарина.
Но были среди наших соседей и «городские». Рядом жили без хозяйства, «по-городскому», две сестры-старушки. Иногда они зазывали меня к себе и умильно угощали чаем с вареньем за круглым столиком с вязаной белой скатертью. Жили они, по моим представлениям, бедно: ни кошки, ни собаки, ни кур, ни детей. Скучно жили. Даже чайные чашки у них неинтересные – белые, без цветочков и такие тонкие, что можно было сквозь чашку смотреть на солнце и тогда она отливала изнутри розовым. Одна из старушек, Фима, называла свои чашки китайскими. Но их чашки не годились даже для чечек. Чечки – это осколки разбитой посуды, которые мы с подружками искали в земле, по обочинам дорог, во дворе. Особенно успешными были поиски чечек вблизи помоек. Мы очищали чечки от грязи, складывали их в свои коробочки, а потом подолгу разглядывали, раскладывали, обменивались, то есть своего рода детское коллекционирование. Особенно ценились у нас чечки с рисунками или хотя бы с частью цветочка. Всё это я рассказала бедным старушкам, а они, посмеиваясь, всё расспрашивали и расспрашивали меня о нашей весёлой жизни, подкладывая варенье на бедненькое китайское блюдце. Взрослые часто меня расспрашивали, и я лет с четырёх привыкла отвечать связно и объяснительно. Но у старушек было скучно и я зачастую отказывалась от их приглашений. Бабушка к этим соседкам никогда не ходила. Она вообще не любила по соседям ходить. Сдержанная в общении со всеми, немногословная с чужими, она чувствовала себя полной хозяйкой положения только в доме.
Этому её научила горькая жизнь. Зато все свои, родня и деревенские, находили в нашем доме тепло, участие и угощение.
Приезжали из деревень по делам в город, а потом заходили к нам чайку испить перед дорогой, а то и переночевать в непогоду. Зимой спали то на полатях, то в моей, проходной, комнате, а летом – в тёмных сенях в углу, на широкой скрипучей деревянной кровати, которая называлась «бабушкино приданое». Помню, одно время частенько останавливался у нас переночевать безногий инвалид, приезжавший в Кунгур «хлопотать пензию». Такие люди были не редкостью в 50-е годы, после войны. Катался он на деревянной подставке с колёсиками-подшипниками, а в руках у него были два деревянных бруска-упора, чтобы отталкиваться от земли. Весёлый был человек, всё балагурил да всех благодарил. Пахло от него плохо.
Одну зиму, месяца два, жил у нас парнишка из деревни Байкино, родственник, Руф Ковшевников. Он учился на курсах шофёров в Кунгуре и так зубрил по вечерам правила дорожного движенья, что даже я выучила их наизусть и строго «проверяла» его. Потом, успешно сдав экзамен, он шутил, что я его гоняла не зря и была построже экзаменаторов.
Бабушка славилась у нас шанежками. По субботам с вечера доставала она из маленького узкого шкафчика, на котором стоял самовар, кадушку-бадейку и ставила на ночь квашню. Утром из бадейки лезло пузырчатое тесто, а бабушка особенно тщательно очищала клеёнку на кухонном столе, посыпала её мукой и начинала делать шанежки. У каждого из нас были свои любимые начинки. Дедушка любил с картошкой, бабушка – с пшённой кашей, мама – наливные, а я – с черёмухой, вернее, с черёмуховой мукой, которую заготавливали летом: сушили ягоды, мололи их, а зимой с сахаром, чёрная и душистая черёмуховая мука годилась то на кисели, то на шанежки.
За черёмухой ходили к лесным рекам дед с мамой, приносили большие корзины. Меня с собой не брали, опасно у реки с ребёнком. А вот раскладывать черёмуху для просушки бабушка доверяла мне. Я наедалась до оскомины. Бабушка пекла шанежки в русской печи на противнях, они никогда не подгорали у неё, а были твёрденькие и тоненькие снизу и зажаристые, душистые сверху, потому что она щедро поливала их сметаной для вкуса и цвета.
С шанежками пили чай в большой комнате. И только бабушка установит тарелки на квадратный стол, как дед уж говорит довольным голосом: «Кобылка сбрякала – гости во двор» – и у нас появлялись воскресные гости. И откуда они знали, что шанежки готовы? Вообще-то эта выпечка называется шаньги, но мне больше нравится шанежки.
Блины у бабушки тоже выходили отменные, но для воскресенья не годились. Блины – кушанье сиюминутное, чадное. Угар оставался на целый день в доме, да и хозяйка суетилась у печки, а не сидела с гостями. Блинами бабушка кормила деда и меня в будние дни. Маме, когда она приходила с работы, оставались блины на шестке, чуть тёплые. Да, права бабушка, шанежки по воскресеньям – милое дело, дёшево и сердито, как говорила бабушка.
Пироги – блюдо дорогое, нужно много мяса или рыбы, сливочное масло. Пироги пекли редко, по праздникам. Гораздо чаще стряпали всей семьёй пельмени. Тут командовал дед. Фарш он сёк фигурной сечкой в специальном корытце, да и фарш не простой, а тройной – из мяса говяжьего, свиного и бараньего. Репчатого лука дед добавлял совсем немного, а чёрного перца и хотел бы побольше, но бабушка зорко следила. Сырой готовый фарш дед и я пробовали на соль. Мне разрешали съесть сырого фарша ложки две-три, считалось, что полезно, а я его просто обожала. Бабушка вымешивала тугое тесто и резала его на тонкие полоски. Тут в дело вступали опять мы с дедом. Я выравнивала кусочки теста в кружочки и прижимала их ладошкой. Дед умел скать сочни тоненькие и ровные, не хуже бабушкиных. Сочни складывали горкой, а потом начиналось и вовсе искусство: дед лепил пельмени такие ровненькие, так красиво их выгибал и складывал на специальные большие пельменные доски, посыпанные мукой, что любо-дорого смотреть. Сравниться с ним никому не удавалось, ни дочкам, ни зятьям, ни бабушке. Пельмени делали впрок, по нескольку сотен, морозили в сенях, складывали в берестяной короб, который держали в чулане. Кстати, ели пельмени даже в тёплую весну, хотя холодильника у нас не было. Морозили продукты в лéднике. В амбаре под землю уходил глубокий погреб, куда дед в марте сбрасывал зернистый снег, утрамбовывал его и замораживал на мартовском морозе, а потом целое лето хранили там молоко и мясо без проблем. А свежие пельмени варили в чугунке и ели, то посыпая перцем, то поливая растопленным сливочным маслом, то макая в тарелочку с разбавленной уксусной эссенцией. Пельмени пельмешками в нашей семье не называли, как и блины – блинчиками. К еде относились уважительно. А вот шаньги у нас были шанежками, ласково.
За цыплятами мы с бабушкой ходили очень далеко – в Плехановую деревню, куда и автобус не ходил. Почему именно в этой деревне бабушка покупала цыплят, точно мне неизвестно. Вероятно, потому, что куры получались из них рыжие, а потому и дешевле, нет?
Две-три дюжины жёлтых пищащих комочков бабушка бережно несла в большой корзине, закрытой чистым ситцем. Дорога дальняя, и, когда мы всё чаще присаживались отдохнуть у обочины, бабушка откидывала ткань на корзине – продышаться животинке, а я осторожно поглаживала одним пальчиком топчущиеся комочки.
Потом дома с ними было много хлопот. Бабушка выкармливала цыплят мягкими крупами с круто сваренными яйцами, ошпаривала и толкла им первую нежную крапивку, грела цыплят в кухне в холодные дни весны.
Летом цыплята-подростки бродили в садочке во дворе, клевали смородинные кусты, прятались в них от бабушки, когда вечером она загоняла цыплят в курятник. Поздней осенью рыжих молоденьких кур переводили на зимовку в дом – в голбец. Оттуда из-под пола раздавался басовитый, важный петушиный крик, что-то требовавший для куриного сообщества. Бабушка спускалась в подполье, включала свет, разговаривала с курами, кормила их. Благодарные наши курочки неслись всю зиму. Но это их не спасало. Куриная счастливая жизнь была недолгой. Постепенно исчезая в супах, они к весне пропадали почти все, и начинался новый поход в Плеханово. Оставалось несколько кур на лето на яйца да клевачий, яркий петух жил, на моей памяти, года три-четыре. Курами занималась бабушка, она называла их самыми нежными и полезными созданьями из всего хозяйства. А мне, как самой маленькой, поручалось лазить под переднее крыльцо, где какая-то несознательная курица упорно неслась, не поддаваясь на бабушкины уговоры.
Наше хозяйство в своём доме на окраине Кунгура почти не отличалось от деревенского, привычного бабушке. Две свиньи в свинарнике, куры в курятнике, кот, собака, огород, баня – обычное дело, пожалуй, полегче, чем в деревне, ведь ни коровы, ни покоса уже не было. Так жили многие по окрестным кунгурским улицам, недаром и наша улица в то время называлась Крестьянской. Это потом, в 1961 году, она возгордится в честь полёта Юрия Гагарина и, забыв о Крестьянской, а когда-то Мининской, станет длинной, вплоть до Ледяной горы, улицей Гагарина.
Но были среди наших соседей и «городские». Рядом жили без хозяйства, «по-городскому», две сестры-старушки. Иногда они зазывали меня к себе и умильно угощали чаем с вареньем за круглым столиком с вязаной белой скатертью. Жили они, по моим представлениям, бедно: ни кошки, ни собаки, ни кур, ни детей. Скучно жили. Даже чайные чашки у них неинтересные – белые, без цветочков и такие тонкие, что можно было сквозь чашку смотреть на солнце и тогда она отливала изнутри розовым. Одна из старушек, Фима, называла свои чашки китайскими. Но их чашки не годились даже для чечек. Чечки – это осколки разбитой посуды, которые мы с подружками искали в земле, по обочинам дорог, во дворе. Особенно успешными были поиски чечек вблизи помоек. Мы очищали чечки от грязи, складывали их в свои коробочки, а потом подолгу разглядывали, раскладывали, обменивались, то есть своего рода детское коллекционирование. Особенно ценились у нас чечки с рисунками или хотя бы с частью цветочка. Всё это я рассказала бедным старушкам, а они, посмеиваясь, всё расспрашивали и расспрашивали меня о нашей весёлой жизни, подкладывая варенье на бедненькое китайское блюдце. Взрослые часто меня расспрашивали, и я лет с четырёх привыкла отвечать связно и объяснительно. Но у старушек было скучно и я зачастую отказывалась от их приглашений. Бабушка к этим соседкам никогда не ходила. Она вообще не любила по соседям ходить. Сдержанная в общении со всеми, немногословная с чужими, она чувствовала себя полной хозяйкой положения только в доме.
Этому её научила горькая жизнь. Зато все свои, родня и деревенские, находили в нашем доме тепло, участие и угощение.
Приезжали из деревень по делам в город, а потом заходили к нам чайку испить перед дорогой, а то и переночевать в непогоду. Зимой спали то на полатях, то в моей, проходной, комнате, а летом – в тёмных сенях в углу, на широкой скрипучей деревянной кровати, которая называлась «бабушкино приданое». Помню, одно время частенько останавливался у нас переночевать безногий инвалид, приезжавший в Кунгур «хлопотать пензию». Такие люди были не редкостью в 50-е годы, после войны. Катался он на деревянной подставке с колёсиками-подшипниками, а в руках у него были два деревянных бруска-упора, чтобы отталкиваться от земли. Весёлый был человек, всё балагурил да всех благодарил. Пахло от него плохо.
Одну зиму, месяца два, жил у нас парнишка из деревни Байкино, родственник, Руф Ковшевников. Он учился на курсах шофёров в Кунгуре и так зубрил по вечерам правила дорожного движенья, что даже я выучила их наизусть и строго «проверяла» его. Потом, успешно сдав экзамен, он шутил, что я его гоняла не зря и была построже экзаменаторов.
Бабушка славилась у нас шанежками. По субботам с вечера доставала она из маленького узкого шкафчика, на котором стоял самовар, кадушку-бадейку и ставила на ночь квашню. Утром из бадейки лезло пузырчатое тесто, а бабушка особенно тщательно очищала клеёнку на кухонном столе, посыпала её мукой и начинала делать шанежки. У каждого из нас были свои любимые начинки. Дедушка любил с картошкой, бабушка – с пшённой кашей, мама – наливные, а я – с черёмухой, вернее, с черёмуховой мукой, которую заготавливали летом: сушили ягоды, мололи их, а зимой с сахаром, чёрная и душистая черёмуховая мука годилась то на кисели, то на шанежки.
За черёмухой ходили к лесным рекам дед с мамой, приносили большие корзины. Меня с собой не брали, опасно у реки с ребёнком. А вот раскладывать черёмуху для просушки бабушка доверяла мне. Я наедалась до оскомины. Бабушка пекла шанежки в русской печи на противнях, они никогда не подгорали у неё, а были твёрденькие и тоненькие снизу и зажаристые, душистые сверху, потому что она щедро поливала их сметаной для вкуса и цвета.
С шанежками пили чай в большой комнате. И только бабушка установит тарелки на квадратный стол, как дед уж говорит довольным голосом: «Кобылка сбрякала – гости во двор» – и у нас появлялись воскресные гости. И откуда они знали, что шанежки готовы? Вообще-то эта выпечка называется шаньги, но мне больше нравится шанежки.
Блины у бабушки тоже выходили отменные, но для воскресенья не годились. Блины – кушанье сиюминутное, чадное. Угар оставался на целый день в доме, да и хозяйка суетилась у печки, а не сидела с гостями. Блинами бабушка кормила деда и меня в будние дни. Маме, когда она приходила с работы, оставались блины на шестке, чуть тёплые. Да, права бабушка, шанежки по воскресеньям – милое дело, дёшево и сердито, как говорила бабушка.
Пироги – блюдо дорогое, нужно много мяса или рыбы, сливочное масло. Пироги пекли редко, по праздникам. Гораздо чаще стряпали всей семьёй пельмени. Тут командовал дед. Фарш он сёк фигурной сечкой в специальном корытце, да и фарш не простой, а тройной – из мяса говяжьего, свиного и бараньего. Репчатого лука дед добавлял совсем немного, а чёрного перца и хотел бы побольше, но бабушка зорко следила. Сырой готовый фарш дед и я пробовали на соль. Мне разрешали съесть сырого фарша ложки две-три, считалось, что полезно, а я его просто обожала. Бабушка вымешивала тугое тесто и резала его на тонкие полоски. Тут в дело вступали опять мы с дедом. Я выравнивала кусочки теста в кружочки и прижимала их ладошкой. Дед умел скать сочни тоненькие и ровные, не хуже бабушкиных. Сочни складывали горкой, а потом начиналось и вовсе искусство: дед лепил пельмени такие ровненькие, так красиво их выгибал и складывал на специальные большие пельменные доски, посыпанные мукой, что любо-дорого смотреть. Сравниться с ним никому не удавалось, ни дочкам, ни зятьям, ни бабушке. Пельмени делали впрок, по нескольку сотен, морозили в сенях, складывали в берестяной короб, который держали в чулане. Кстати, ели пельмени даже в тёплую весну, хотя холодильника у нас не было. Морозили продукты в лéднике. В амбаре под землю уходил глубокий погреб, куда дед в марте сбрасывал зернистый снег, утрамбовывал его и замораживал на мартовском морозе, а потом целое лето хранили там молоко и мясо без проблем. А свежие пельмени варили в чугунке и ели, то посыпая перцем, то поливая растопленным сливочным маслом, то макая в тарелочку с разбавленной уксусной эссенцией. Пельмени пельмешками в нашей семье не называли, как и блины – блинчиками. К еде относились уважительно. А вот шаньги у нас были шанежками, ласково.

Алина Дием- Русская поэтесса
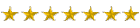
- Сообщения : 94
Очки : 205
Репутация : 1
Дата регистрации : 2017-08-28
Возраст : 69
Откуда : из Пермского края
Страница 1 из 1
Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения


» Старые фотографии Кунгура
» О Кунгурском техническом училище по отчёту за 1892 год
» Кунгурские мещане Титовы (продолжение)
» История заселения прибережных территорий Сылвы и ее притоков от Усть-Кишерти до границы с Верхотурским уездом
» О Кунгурском медеплавильном заводе